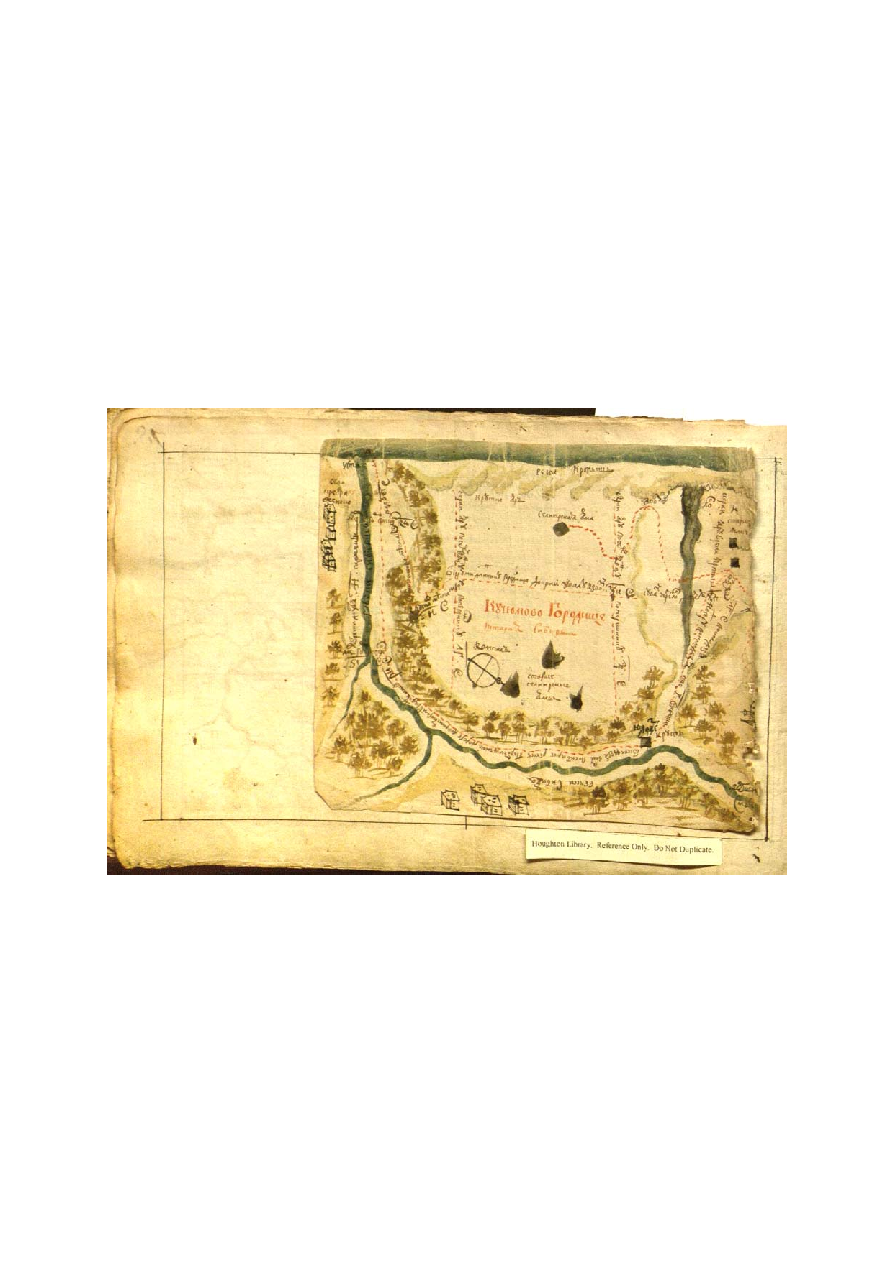Более 300 лет прошло после составления первого ремезовского
атласа. В 2011-м «Хорографическая чертежная книга Сибири» была издана
фондом «Возрождение Тобольска» в количестве 600 экземпляров.
Более чем
через 300 лет после составления географического атласа Сибири работа
была издана на хорошей бумаге, в кожаном переплете. Это один из
наиболее значительных памятников
русской картографии, принадлежащий руке географа, художника, историка и
архитектора Семена Ремезова.
«Хорографической чертежной книгой Сибири»
общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» завершил в
этом году публикацию ремезовских трудов.
Всего вышло в свет четыре издания. Ранее появились
«Ремезовская летопись», «Чертежная книга Сибири» и «Служебная чертежная
книга». Фолианты вызвали неподдельный интерес ученого сообщества, а
«Чертежная книга Сибири» на книжном салоне в Санкт-Петербурге в 2006-м
была названа лауреатом в номинации «Издание, ставшее событием года».
В жадные до детальных сведений руки историков попали
поистине сокровища. До того как фонд «Возрождение Тобольска» взялся за
Ремезова, отыскать ранние издания его трудов в российских библиотеках
было крайне сложно.
Вот вам живой пример — доктор исторических наук,
директор Института гуманитарных исследований Тюменского университета
Александр Матвеев. Большую часть жизни Александр Васильевич «находился в
глубокой древности» — изучал памятники бронзового века. Лет семь назад
«выплыл на поверхность», чтобы заняться походами Ермака, раскопками
Тюмени и Тобольска. И столкнулся с проблемой: долго не мог отыскать
необходимую для работы ремезовскую «Хорографическую книгу». А когда
нашел, едва не прослезился: черно-белые изображения, которые надо
разглядывать в лупу, низкое качество печати...
И тут вдруг как подарок судьбы! Матвеев ласково
поглаживает мягкий переплет толстенного тома. «Хорографическую книгу»
ему прислал Аркадий Елфимов — председатель фонда «Возрождение
Тобольска». Еще два экземпляра велел передать в библиотеку ТюмГУ и на
областной конкурс «Книга года».
— Елфимов сделал огромное дело, — говорит Александр
Васильевич. — Можно сказать, совершил научный подвиг! Книги, которые он
издал, для ученых много значат. До сих пор к этим трудам было нелегко
подобраться. Например, когда мне понадобилась «Хорографическая книга»,
выяснилось, что оригинала в России нет.
— Да, он почему-то хранится в Гарвардском университете, в Вашингтоне…
— В начале прошлого века историк русской картографии
Лев Багров вывез книгу из страны. Она где-то странствовала, потом осела в
Гуфтоновской университетской библиотеке Гарварда. Темная история… То
есть до оригинала не добраться. Да и кто будет работать с оригиналом?
Это раритет! Если каждый начнет листать его, что с ним станется? Чем же
тогда воспользоваться? Известно, что Багров в свое время издал атлас в
Голландии, но далеко не в полном объеме и в черно-белом варианте. В СССР
книга, конечно, поступила, но, говорят, всего в четырех экземплярах,
один из которых со временем исчез. Нашел я работу в Санкт-Петербурге.
Скопировал нужные мне листы. Конечно, половину надписей там не
разобрать. Ну а теперь-то совсем другое дело: работать можно! В книге,
изданной фондом, огромное количество ценнейших сведений. Впрочем, как в
любой книге Ремезова!
— Неужели сведения, о которых сообщает Ремезов, не
сохранились в других источниках? В конце концов, 300 лет назад — это не
такое уж далекое прошлое…
— Действительно, что такое три столетия по
археологическим меркам? Но человечество о многом забывает. Нам в то
время переместиться трудно. Мы не знаем того, что знал человек
Петровской эпохи. Какие тогда были деревни? Дороги? Документальных
источников XVII века, как это ни странно, сохранилось мало…
— Необычна карьера Семена Ремезова. Известно, что
на государеву службу он поступил, когда ему было уже за сорок. И в такие
годы вдруг проявились его разносторонние дарования…
— Ремезов — уникальный человек. Почему? Начнем
загибать пальцы. Во-первых, он известен как художник-иконописец.
Во-вторых, как историк. Написал «Историю сибирскую». И не просто
написал, еще и проиллюстрировал! У него каждая страничка — это немного
текста сверху и огромный рисунок. Иллюстрации Ремезова очень точные. Я,
например, на этих рисунках Кучума могу узнать по обуви. Когда Ремезов
рисовал хана, он изображал его в особых сапогах с высокими каблуками.
Это не обувь простолюдина, а дорогие, надо полагать, сафьяновые, с
подковками, сапоги первого человека Сибири!
И много еще у Ремезова
таких мелких деталей, характеризующих то время и тех персонажей. Поэтому
его рисунки — ценнейший источник информации.
— Продолжаем загибать пальцы?..
— В-третьих, Ремезов — географ. Его атласы — одни из
первых в сибирской картографии. Конечно, они очень специфические.
Ремезов был самоучкой. Его работы находятся на грани искусства и науки.
Одно дело — европейская картография, другое дело — схемы Ремезова. Но
это не значит, что они плохи. Во вступительной статье к «Хорографической
книге» приведена остроумная аналогия. Приезжая в Москву, мы берем схему
метрополитена. И нас не смущает, что она излишне правильна и далека от
реальности. Линии метрополитена трудно соотнести с картой Москвы, но
добраться до любой точки, которая нам нужна, по схеме просто. То же
самое с картами Ремезова. Пусть они не точны, однако для путешествий по
Сибири приспособлены как нельзя лучше.
— Территория Сибири огромна. Составить ее подробные
карты 300 лет назад, мне кажется, было непросто. Какими средствами
тогда располагал Ремезов?
— Это и сейчас сложно сделать. Чем он располагал?
Собственным опытом. Ремезов много ездил по Сибири. У него была
возможность беседовать с людьми, которые многое знали. Он также
использовал чужие картографические материалы. Их было немного. В 1696
году из Москвы тобольскому воеводе повелели найти «доброго и искусного
мастера», который бы на основе существующих чертежей составил общую
карту Сибири. Собственно, с этого и началась известная нам история
Ремезова. Его командировали в Москву, в Сибирский приказ. Ремезов ездил
туда со своими сыновьями. И там, судя по всему, познакомился со старыми
картами Сибири. Сделал с них копии. Например, «Служебная чертежная
книга» сейчас воспринимается знатоками как своеобразная записанная
книжка Ремезова. Она всегда была у него под рукой для работы.
— Александр Васильевич, вы загнули всего три пальца. А ведь есть еще и «в-четвертых»?
— Да, Ремезов еще был архитектором и строителем.
Каменный Тобольск в значительной степени его детище. Картографическая и
строительная работы шли у Ремезова параллельно. Ремезов ездил в Москву
учиться. Ходил по храмам, встречался со строителями, изучал дело.
Личность Семена Ульяновича подтверждает известное изречение: если
человек талантлив, он талантлив во всем. А ведь Ремезов был «служилым
человеком». И помимо творческой работы сопровождал хлебные караваны,
ясак выбивал, проводил переписи. Он должен был в любое время по свистку
сорваться, куда-то поехать. Ремезова не следует воспринимать как
какого-то старца, который всю жизнь в Тобольске просидел над картами.
— Любопытно: чем Семен Ульянович занимался до того, как поступил на службу?
— В 1682 году Ремезов был поверстан в «дети
боярские», то есть служилые люди. Ему назначили жалованье и наделили
обязанностью выполнять самые разные поручения. Понятно, что и до 40 лет
Ремезов не лежал на печи. Остались кое-какие сведения о том, что он
помогал отцу, который тоже был служилым человеком. Известно также, что
Ремезов получил хорошее домашнее образование.
— Чем сегодня труды талантливого тоболяка могут быть нам интересны?
— Широкой публике его работы в оригинальном виде,
думаю, вряд ли будут интересны. Они не для вечернего чтения. Труды
Ремезова прежде всего важны ученым. А они уж должны написать книги,
которые с любопытством будут читать все желающие. Сейчас с географией
Сибири мы подробно знакомы. Бессмысленно сравнивать ремезовские атласы с
современными картами, однако историческая география представляет
интерес. Мы же знаем, что русла рек с течением времени меняются, что
природа живая… Что было 300 лет назад? 500? А 1000? Для географии
Ремезов дает достаточный срез знаний рубежа XVII — XVIII вв. Такого
большого объема картографического материала мы больше не имеем. Это
памятник истории и культуры мирового значения. В нем все дышит историей.
Например, походы Ермака. Десятки книг написаны про это, но неясностей
все еще много. Ремезов дает кое-какие ответы. Славу богу, книги теперь у
нас есть, и мы можем в них разбираться. Когда историки не имеют доступа
к нужным материалам, они оказываются «безрукими».
— И если б не Елфимов…
— Огромное спасибо Аркадию Григорьевичу от имени ученых-сибиреведов!
Работы Ремезова он издал по собственному разумению. Никто его не
подталкивал. Просто он понял, что должен это сделать. Книги печатались в
Италии. Каждая вышла в двух томах. Были сохранены объем и размеры
оригиналов. Первый том — факсимильное издание. Второй — перевод на
современный русский язык, дополнения, комментарии. Я категорически не
согласен с высказыванием, что рукописи не горят. Еще как горят! А вот
книги, вышедшие из типографии, все не пропадут. В Тобольске сгорит, в
Тюмени останется. Даже если в каждом сибирском городе будет по одному
экземпляру, этого уже достаточно…
Хорографическая чертежная книга 1697-1711 гг. С. Ремезова является как бы самона-
званием первого русского географического атласа Сибири.
Географическую карту в России в те
времена обычно именовали чертеж, а атлас или собранные региональные чертежи -- чер-
тежной книгой. Под термином хорография (гр. chores -- место, grapho -- пишу) тогда ра-
зумелись описания и карты отдельных территорий суши: стран, областей, районов, а не все-
светная мировая карта или география [Bagrow, 1954, р. 111; Гольденберг, 1965а, с. 94; 1990,
с. 179; Полевой, 1997]. Этим словом пользовался именитый сибирский картограф -- Семен Уль-
янович Ремезов (между 20-27 апреля 1642 -- около 1720 г. [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2005,
с. 43, прим.]): Херография -- латински и гречески; славянски ж являет описания земли в
частех изряднейшее ея, в лицы частей церкильным розмером селения жилищ, от града до
града, коего имеется, и от села до села, и от стран коеждо страны, и междоречия, и от
реки до реки, и от урочища до коегождо урочища учинительно, услужно и доброприятно
[Служебная чертежная книга..., 2006, с. 16].

Рис. 1. Чертеж Кучюмово Городище. С.У. Ремезов, 1703 г. (копия с подлинника)